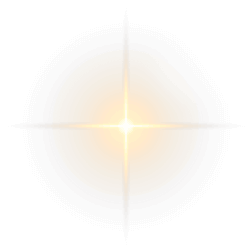«Пациент не мог видеть, как мы его реанимировали!» Что слышат люди в коме и как пережить 11-часовой наркоз
«Минут сорок мы пытались его завести — больше, чем положено по протоколу, ничего не получилось. «Все, хватит!» — командую я. Кто начал реанимацию, тот ее и заканчивает. Мы отходим от кровати, я смотрю на монитор и вижу, как сердце не сразу, но начинает отвечать на электрические импульсы...» — вспоминает священник Алексий Тимаков. Он не раз видел, как выздоравливали безнадежные пациенты. Некоторые случаи ничем иным, как чудом, не назовешь. Но порой он терял тех, кто непременно должен был поправиться.Священник Алексий Тимаков был врачом скорой помощи, кардиореаниматологом и анестезиологом-реаниматологом. В медицине он проработал 18 лет, в последние годы совмещая с ней служение в Церкви. Настоятель храмов святого Николая при Центре борьбы с туберкулезом (ЦБТ) и на Преображенском кладбище в Москве. Когда началась эпидемия коронавируса, отец Алексий создал в храме небольшой стационар.
Как вместо Ирочки госпитализировали Светлану Исааковну
— Врач остается врачом, даже если становится священником. Конечно, отсутствие практики притупляет навыки, но медицинское чутье все равно постоянно срабатывает.
Угроза распространения коронавируса и реакция властей на нее позволяли предположить, что карантинные меры обязательно введут в ближайшее время. Для того чтобы богослужение в храме не прекращалось, я собрал команду из пяти человек, и мы поселились в приходском домике. Но режим самоизоляции был отсрочен более чем на неделю, и этого вполне хватило, чтобы все успели подхватить вирус.
Прекрасно понимая, что медработники попросту не успевают, я взял ряд консультаций у своих друзей-врачей и организовал «мини-стационар». Все были изолированы, всем было назначено довольно интенсивное лечение. На меня, когда я входил в комнату со шприцем, посматривали с печалью: укол был очень болезненным. Меру ответственности я ощущал остро и понимал, что не имею права на ошибку.
Больше всего меня тревожила просфорница Ирочка, входившая в группу риска из-за избыточного веса. К Великому Четвергу удалось достать пульсоксиметр — простой в использовании прибор, позволяющий ориентироваться, как ведут себя легкие. Раньше я им никогда не пользовался и не обратил внимания на то, что измерять насыщение крови кислородом надо в течение трех минут. У всех моих пациентов показатели оказались вполне приличными, а у Ирочки — катастрофическими: 88%. Это абсолютное показание для госпитализации!
Я сдался и стал вызывать скорую. Около часа слышал в трубке: «Ждите, мы обязательно вам ответим!» Наконец произошло соединение, и барышня-диспетчер долго задавала мне ненужные вопросы, отчитывала меня за то, что я занимаюсь не своим делом, но, в конце концов, все-таки соединила со старшим врачом. Около получаса пришлось ждать его ответа, а дальше мы уже разговаривали с ним на одном языке. Он только спросил у меня, однократно ли я производил измерение. Я, понимая, что, если скажу правду про «один раз», услышу в ответ, что нужно еще измерить и потом только звонить, а это — ждать очередные полтора часа, ответил, что несколько раз. Старший врач согласился, что больную нужно срочно госпитализировать, и спросил адрес.

Священник Алексий Тимаков
Ирочка сильно расстроилась — ей очень не хотелось в больницу. Понимая, что скорая работает в нечеловеческих условиях, я не ожидал быстрого ее приезда. Закончилась служба Чтения Двенадцати Евангелий — нам удалось сохранить богослужение силами не заболевшего священника, отца Марка Бланкфельдса, и, как нам казалось, не заразившейся певчей, Светланы Р. — видимо, хороший иммунитет.
Света вернулась со службы и, как могла, утешала Ирину. Прождав полтора часа, я все-таки рискнул вновь позвонить на «03» и поинтересоваться, сколько еще необходимо ждать. Диспетчер ответила минут через сорок и перевела звонок на старшего диспетчера. Та поинтересовалась, по какому адресу происходит ожидание. Так как я разговаривал по громкой связи, все прекрасно слышали весь разговор: «Так забрали мы уже вашу больную! В Первую Градскую больницу!» — «Кого?» — недоуменно вопросил я. «Да вот: Преображенский вал, 25, со стороны Ковылинского переулка, первые ворота справа, вызывал священник…» — сообщила мне диспетчер. «Да, я тот самый батюшка и есть. Никого не вывезли. Вот больная, сидит передо мной, Ирина Витальевна», — недоумевал я. «У нас другая фамилия, — ответили мне. — Мы вывезли Светлану Исааковну, как и указано: первые ворота справа…» «Я никакой Светланы Исааковны не знаю!» — изумлению нет предела: в моем приходе нет человека с таким именем.
У моих девчонок начинается нервно-гомерический смех — обстановка была накалена:
«Шла по Ковылинскому переулку какая-то Светлана Исааковна, ее схватили, упаковали в машину скорой помощи и отвезли в Первую Градскую!»
А через минуту: «Батюшка, подождите, мы перемерили сатурацию: у Ирочки 98%!» Судя по всему, на фоне хохота Ирина хорошо раздышалась, и содержание кислорода в крови пришло в норму. Я извиняюсь перед диспетчером скорой помощи, ибо понимаю, что какая-то Светлана Исааковна, которой больница была гораздо нужнее, чем моей Ирочке, спасла Ирочку от госпитализации.
С Радоницы мы возобновили закрытые богослужения в храме в щадящем режиме и имели возможность совершать прогулки по церковному двору. В одной из таких прогулок на исходе третьей недели я заметил на смежной территории молодого человека, выгуливающего собаку. И тут до меня дошло, что на самом деле первые ворота справа — это не наши! Первые — это деревянные ворота, относящиеся к территории домика, который расположен на пути к нашему храму. Вот за этими деревянными воротами обитала милая семейная пара. Я обратился к пареньку: «Слушай, Миш, а ты случайно не знаешь, кто такая Светлана Исааковна?» «Знаю, — ответил он, — моя жена». И рассказал, как ее госпитализировали: «Я пять часов не мог дозвониться до скорой, а у жены — два дня температура за сорок! Вдруг смотрю — машина подъезжает к воротам… Ее только вчера выписали».
Все встало на свои места. Госпитализация однозначно нужна была этой Светочке в отличие от моей Ирочки. Но если я, с моим высшим медицинским образованием, более полутора часов пытался добиться толкового ответа от специалиста «03» и соединения с врачом, то паренек в этой экстремальной ситуации вообще мог ничего не объяснить. И моими усилиями Господь все устроил именно так, как было Ему необходимо, и даже мое малодушие и лукавство устроил в Свою пользу.
Какой-то бородатый сказал: «Хватит!»
Однажды удалось спасти больного совершенно непостижимым образом, и ничем иным, как явным чудом, я это объяснить не могу. Все совершалось на фоне полного бессилия и собственной несостоятельности.
Больному предстояла операция по удалению раковой опухоли, и, понятное дело, ее надо было провести как можно скорее. Накануне я пришел к нему на предварительный осмотр, чтобы выяснить особенности его здоровья, которые могут так или иначе повлиять на течение наркоза. Взглянув на кардиограмму, понял, что с такими данными его оперировать категорически нельзя: он у нас на столе и останется.
Доложил все на конференции и выразил мнение, что сначала необходимо поставить кардиостимулятор, и только после этого приступить к лечению основного заболевания. К этому прислушались, тем более что я мог обеспечить перевод пациента в ту самую 81-ю больницу, меня там неплохо помнили. И вот настал день операции, я уверен и доволен собой. Хирурги подшучивают надо мной: «Какой идеальный наркоз! Пульс 70 ударов в минуту!» Еще бы, ведь из-за кардиостимулятора сердце пациента работает как часы, и это совсем не заслуга анестезиолога.
Операция окончена, перевожу пациента в послеоперационную, перекладываю на кровать. Больной еще в наркозе. Продолжается искусственная вентиляция легких, подключаю его к монитору. Поначалу все хорошо, но на моих глазах замечаю, что сердце вдруг перестает отвечать на импульс стимулятора: импульс проходит, а сердце не сокращается — остановка кровообращения. Хирурги уйти еще не успели, и мы вместе начинаем реанимацию. Непрямой массаж сердца — сначала я, потом хирурги…

Минут сорок мы пытались его завести — больше, чем положено по протоколу, ничего не получилось. «Все, хватит!» — командую я. Кто начал реанимацию, тот ее и заканчивает. Мы отходим от кровати, я смотрю на монитор и вижу, как сердце не сразу, но начинает отвечать на электрические импульсы — стимулятор-то никто не отключал, он на аккумуляторе и вшит под кожу. То есть своими реанимационными мерами мы обеспечили на время остановки кровообращения жизнедеятельность мозга. Но как и почему сердце начало вновь работать, я понять так и не могу.
Как бы то ни было, реанимация прошла успешно. Но ни у кого из моих коллег-реаниматологов не возникло сомнений, что на моем грядущем ночном дежурстве мне не удастся сомкнуть глаз. Ехидства нам, врачам-циникам, не занимать, и каждый, прощаясь со мной, с широченной улыбкой желает мне радостной пахоты. Все понимают, что снять пациента с аппарата ИВЛ получится только через несколько дней и его ожидают серьезные проблемы — такое бесследно не проходит.
Часа два, пока продолжалось действие препаратов, наш герой спал крепким сном, а потом зашевелился и стал проявлять признаки неудовольствия — кому понравится, когда у него в горле торчит интубационная трубка. Я убедился, что дышит он вполне адекватно, правильно реагирует на все мои вопросы, и извлек приспособление из трахеи. Ночь он провел спокойно. Когда утром вернулись мои коллеги, их удивлению, что больной вполне сохранен, не было предела.
Уже в отделении хирургии больной рассказал лечащему врачу, что помнит, как его реанимировали: «Я сказать ничего не могу, только про себя думаю: “Мальчики, ну еще немножко. Мальчики, ну еще чуть-чуть”. А тут один бородатый и говорит: “Все, хватит. Отходим”». Бородатый — это как раз я. Он не мог этого видеть и слышать, так как в это время оставался в состоянии управляемой комы, лежал с закрытыми глазами и сознание к нему вернулось, как я уже сказал, только через пару часов.
Дед Мороз
Я родился в 1959 году. Но все-таки главные детские воспоминания связаны с Церковью, церковными праздниками.
Ночная Рождественская служба. Мне четыре года, начало шестидесятых. В храме — еловый аромат, сначала пытаешься молиться, потом устаешь, садишься на коврики, сложенные на амвоне, потом ложишься и засыпаешь. Просыпаешься от того, что тебя будят к причастию. А затем всей семьей едешь на такси домой по ночной Москве разговляться. Почему-то запомнилось, как дорога и все фонари то поднимаются, то опускаются, и ты по московским холмам как будто плывешь, как по волнам. Разговение: самое главное — это кружка молока! Без него так тяжело, а после него — немного салатика, немного курочки и спать…
Очень хорошо помню рождественские елки дома 1963 и 1964 годов, ведь на них приходил Дед Мороз! Собиралось несколько семей, очень много детворы. Веселимся, играем и в какой-то момент смотрим: по саду идет — ну конечно, он — с мешком. Заходит, сначала страшно, сторонишься, боишься приблизиться, а потом смелеешь.
Я был самым маленьким, читал стихи на коленях у самого Деда Мороза, но почему-то не замерз. В конце праздника брат, который был старше на три года, шепнул на ухо: «А это Герасим Петрович». Я потом спорил до хрипоты с ним: «Нет, это настоящий Дед Мороз, он и холодный, правда не настолько, чтоб заморозить, но холодный!»
А на следующий год все же стал внимательно всматриваться и подглядел, как на террасе происходит какое-то непонятное действие: кто-то там переодевается в темноте, потом выходит из нее, проходит мимо кухни, подходит к калитке, разворачивается и, уже стуча посохом, подходит к крыльцу и тарабанит в дверь кулаком. И, отрабатывая свой подарок чтением очередных стихов, обратил-таки внимание на черную бороду, прикрытую ватной бородой: все-таки очень похож Дед Мороз на художника Герасима Петровича, в будущем — известного священника, отца Герасима Иванова.
«О чем говорят попы?»
С 1966 года и фактически до окончания института мы каждый год ездили на Селигер. Весь скарб хранился в деревне Жар, что напротив Ниловой пустыни, на чердаке в доме у некоей Анны Васильевны Юдиной. А катер всю зиму ждал нас в городе Осташков на Евстафьевской улице, во дворе дома рабов Божиих Петра и Антонины.
Из Москвы добирались на поезде, приводили лодку в порядок, спускали на воду, забирали вещи из Жара, на острове Хачин разбивали палаточный лагерь и жили там дикарями целый месяц. Отец мой, обладавший неплохими плотницкими навыками, обязательно сам ставил большой видный издалека деревянный крест, у которого совершались утренние и вечерние молитвы.
Кого только не было в этом палаточном лагере! Естественно, мой отец, протоиерей Владимир Тимаков, отец Владимир Шуста — в будущем архимандрит Вассиан — первый наместник Нило-Столбенской пустыни после ее открытия, отец Алексей Злобин, отец Александр Мень, — все с матушками и детьми. Пару или тройку лет посещал нас владыка Алексий (Коноплев), тогда — архиепископ Краснодарский и Кубанский. Бывал там, еще будучи игуменом, будущий митрополит Чувашский Варнава (Кедров). Но главное — куча детворы.
Отец Алексий Злобин не мог надолго оставлять свой приход и появлялся наездами, прихватив с собою то одну, то другую группу своих многочисленных детей, и его приезды всегда воспринимались как праздник, ибо нашему ребячьему миру увеличение компании всегда было в радость: тут тебе и футбол, тут тебе и купание, и грибы, и черника!
Взрослые всегда засиживались у костра допоздна. Дорогие воспоминания: короткая летняя ночь, костер, беседы. Вокруг тишина, и разговоры по воде хорошо распространяются.
Вдруг слышим с противоположного берега голоса: «Пойдем, послушаем, о чем попы говорят».
И видно, как почти неслышно подплывает лодка и хоронится вблизи камышей. А отцы спокойно продолжают свою беседу — это же проповедь для тех, у кого, возможно, обострился духовный голод…
Место в лодке уступал отец Александр Мень
В 1968 году мы стояли на острове Хачин у залива вблизи Белого озера, из которого вытекает узенькая речка Протока. Она впадала в залив по правую руку в 300 метрах от стоянки, а по левую руку на противоположном берегу, в 500 метрах была Копанка, канал, который еще в XIX веке прокопали монахи сквозь узкий перешеек Хачина для лучшего водного сообщения с окрестными деревнями. Копанка к середине лета мелела, и пройти ее на шаланде, первой нашей моторной лодке, можно было только волоком.
Ежевечерние прогулки на этой шаланде для детворы всегда были праздником. А всем взрослым места не хватало. Самыми покладистыми были мама, которая всегда готова была уступить свое место, и отец Александр Мень, предпочитавший уединение с книжкой любым развлечениям.
Посередине шаланды стоял стационарный 2-3-сильный мотор, на носу была рубка, спасавшая от непогоды. Удивительной особенностью этого катера была способность плыть с одной, пусть и небольшой, скоростью вне зависимости от числа пассажиров. Но норов у нее был своеобразный: она могла заглохнуть в любой момент.
Однажды ночью мы так и заснули в этой рубке, примостившись головами на маминых коленях — она тогда путешествовала с нами, и было необыкновенно уютно покачиваться на волнах и ощущать тепло маминых ног. Мотор как раз перестал выказывать признаки жизни. А перед этим запомнилось, как отец долго-долго отжимает ногой педаль стартера, пытаясь реанимировать движок. Заводилась шаланда сама, по своему собственному хотению, и мы продолжали путешествие.
Пройдя с противоположной стороны половину Копанки на моторе, мы упирались в отмель, и ребячьих сил сдвинуть шаланду с места явно было недостаточно. Тогда детвора подбегала к заливу, из которого открывался вид на лагерь, и начинала вопить что есть мочи: «Отец Александр!» С противоположного берега доносилось его ответное: «О-го-го!» — он махал нам рукой и отправлялся в путь, переходил Протоку вброд и по противоположному берегу лесными тропами добирался до нашей компании. Его тягловой силы вполне хватало, и мы, наконец, доплывали до лагеря.
А после одного из таких наших детских криков со стоянки на противоположном берегу, что как раз между Копанкой и Протокой, к нам пристала лодка. «Ба! — изумился мой отец. — Михаил Аркадьевич Суховский со всей своей фамилией!»
Ольга Петровна Суховская и ее дочь, Наталья Аркадьевна, были ближайшими друзьями нашей семьи, без которых не обходилось практически никакого мало-мальски значимого события. Муж Ольги Петровны был правой рукой маршала Василевского.
Сама Ольга Петровна некогда окормлялась у известного московского духовника, протоиерея Владимира Страхова, который в 30-е годы оказался на Соловках. Тогда она, еще совсем молодая женщина, решила навестить своего авву и сообщила об этом мужу. Тот только спросил ее: «Ты знаешь, что будет со мной, если тебя поймают?» Она ответила: «Да». «Тогда езжай!» — сказал муж. И она поехала, добралась до архипелага, встретилась с батюшкой и благополучно вернулась домой.
Дыхание таких людей согревало меня с детства. Михаил Аркадьевич, пожалуй, не был столь близок, но все равно входил в когорту хорошо знакомых отцу людей. И его сын, Алексей, почти мой ровесник, был одним из гостей наших рождественских елок.
Встретить это семейство на острове было полной неожиданностью — так бы и прожили месяц на противоположных берегах залива, ничего не подозревая друг о друге, если бы не наши вечерние детские вопли. А дальше — простая арифметика: кто еще может так нагло кричать в советское время, призывая на помощь отца Александра? Вот на следующий день и проведали, и компания наша стала богаче.
О прогулах и экзамене
О том, что я верующий, в школе не знали класса до девятого: сам я не особо афишировал тонкие нюансы своей биографии. Но директор, судя по всему, была в курсе и ко мне относилась предвзято. Дважды отца вызывали в школу за мое «плохое поведение». Один раз — за то, что я стоял около физкультурного зала и смотрел, как ребята играют в «трясучку» — игру на деньги. Просто смотрел, не играл, — такие были в семье установки на жизнь. Но, видимо, истинному партийцу очень хотелось познакомиться с живым священником и показать свою власть.
Второй раз хотя бы за дело вызвала: мы с несколькими мальчишками-одноклассниками сбежали с уроков. Причем через окно: миновать тетю Симу со шваброй перед нормальным выходом из школы было просто нереально. Но, открыв окно в конце коридора на втором этаже, можно было легко воспользоваться пандусом и оказаться на свободе.
Поймали всех, а вызвали только моего отца. Но вообще-то я очень благодарен директору, Александре Федоровне Красновой: будучи идейным коммунистом, она не сильно донимала меня идеологическим прессом, и по негласной с ней договоренности — видимо, она тоже берегла свои нервы — я практически промолчал на всех уроках по обществоведению и не включался в обсуждения материалов съездов нашей родной компартии, получая просто так свои тройки и не расшатывая свою нервную систему.
В медицинском я учился неплохо, кроме, наверное, последнего года — тогда было не до учебы, поскольку я собрался жениться, и со своей Инной прогуливал занятия абсолютно бессовестным образом. Но, в отличие от моей жены, мне хватило смелости пойти на выпускной экзамен.
«Как ты думаешь, Иннуль, — спросил я у своей супруги, — может ли мне попасться такой билет, где из четырех вопросов я знаю ответы хотя бы на два?»
Она вполне резонно ответила, что нет. Но в итоге я вытащил такую комбинацию вопросов, что знал ответы на три, а четвертый мне подсказали: синдром Дресслера — серьезное осложнение инфаркта.
Потом эти познания я не раз успешно применял на практике при лечении больных в инфарктном отделении. Более того, написав ответы на свой билет, я сидел и подсказывал направо и налево как минимум семерым своим сокурсникам. Значит, неплохо нас учили, раз на экзамене удивительным образом знания всплыли в моей голове. В итоге: шел, робко рассчитывая получить «три», получил «четыре» и огорчился, что не «пять» — наглости мне не занимать…
«Меня уже вешали»
После института пошел работать в скорую — там в те времена был более-менее нормальный заработок, а я понимал, что мне надо кормить семью.
На самом деле на скорой работать очень просто. Когда выезжаешь на вызов, ты практически всегда знаешь, что тебе предстоит делать: в карте вызова все написано. Например, пациент задыхается. И ты уже понимаешь, что в 80% случаев это бронхиальная астма, в 5% — отек легких, остальное — какая-нибудь ерунда. И у тебя есть алгоритм действий на все ситуации.
Но бывали и неожиданности. Получаю вызов, в карте так и написано: «задыхается». При этом размышляю, приступ бронхиальной астмы или отек легких вряд ли может быть — слишком хорошая, летняя погода, но, с другой стороны, мало ли что может случиться в жизни. Приезжаем, поднимаемся с медсестрой на третий этаж «хрущевки», открывает женщина лет пятидесяти. Раз сама — значит, не отек легких, да и на бронхиальную астму совсем не похоже. Но, действительно, задыхается.
Присмотрелся — у нее огромная опухоль вокруг шеи, которая сдавливает ей просвет трахеи, и ей действительно трудно дышать. Но случилось-то это с ней отнюдь не сегодня и даже не вчера. Врач скорой тут ни при чем: сделать я ничего не могу, везти ее в стационар на плановое лечение — тоже не могу. Единственное, что возможно — объяснить ей тактику поведения, тем более что непосредственной угрозы жизни нет никакой, в ближайшее время с ней ничего не случится: нужно вызвать врача из поликлиники, который даст направление на госпитализацию в специализированный стационар, где ее спокойно прооперируют.
Принцип работы на скорой помощи: сделал — запиши, не сделал — тем более запиши. Соответственно, сижу и описываю в карте вызова всю ситуацию. А в это время с пациенткой беседует моя медсестра, Виолетта Кузьминична — крупная, полная, активная женщина, не склонная к сантиментам. За ней было всегда, как за каменной стеной — все сделает четко, быстро. Думаю, если бы поставить ее на рынок за прилавок, наверное, товар у нее расходился бы за секунду. Но поговорить с ней о вере или еще о каких высоких материях мне в голову никогда не приходило, да и время было такое, 1986 год, когда на все беседы о Боге было наложено табу.
Вдруг до меня долетают слова пациентки: «А меня уже один раз вешали». Я отрываюсь от писанины. Ситуация нестандартная: как это — вешали? И почему «уже»? Вроде бы сейчас ее никто не вешает? Но, судя по всему, затрудненное дыхание ей о чем-то напомнило?
«Это было еще во время войны, я еще девчонкой была, — продолжает пациентка абсолютно спокойным и ровным голосом, — мы жили в белорусской деревне, попали под оккупацию.
А я чернявая была, вот немцы и решили, что я еврейка, и потащили меня на эшафот. Приволокли, разодрали воротник, чтобы петлю набросить. А я тогда глупая была, крест носила. Немцы-то крест увидали и вешать меня не стали».
У меня — мурашки по коже… Оборачиваюсь к своей напарнице, смотрю, Вета в глубочайшем волнении. Я ее и спрашиваю: «Веточка, солнышко, если бы тебя когда-нибудь крест Христов спас от смерти, ты бы смогла его потом снять?» И эта, как мне казалось, грубоватая, суровая женщина, которая никак от потрясения не может прийти в себя, произносит: «Никогда в жизни!» «А она, — кивнул я в сторону нашей пациентки, — не только сняла, но даже то время, когда этот крест носила, считает для себя потерянным».
Я не знаю, дошли ли мои слова до души больной: мы с ней в дальнейшем не встречались, но в том, что это проняло мою напарницу, я не сомневаюсь, и посильная проповедь в те застойные советские времена все-таки состоялась.
Открытая форточка
Проработав на скорой четыре года, я перешел в 81-ю больницу. Дело было так: у нас на подстанции появился доктор Владимир Иосифович Голод, который заметно отличался от всех остальных врачей нашей подстанции своей медицинской эрудицией. Перешел он к нам из Бакулевского центра и был прекрасным кардиологом. Причины его перехода я с ним не обсуждал — это было бы неэтично.
К тому времени я уже заработал достаточно неплохую репутацию, и меня нередко оставляли ответственным. Мы с ним много разговаривали на разные философские и культурологические темы и вполне уважительно относились друг к другу. Однажды он подошел ко мне со словами: «Леш, а ты врачом-то собираешься становиться?» Я вполне оценил его чувство юмора и ответил в тон: «Да, неплохо бы». А Владимир Иосифович продолжил: «Езжай в 81-ю больницу, там есть доктор Иванов Константин Михайлович. Подойдешь к нему, скажешь, что от меня».
Константин Михайлович внешне очень походил на Нестора Петровича Северцева из «Большой перемены». Первая встреча не произвела на меня никакого впечатления, тогда даже поговорить толком не удалось — он бурчал что-то неудобовразумительное, спешил и показался очень несобранным. Я вернулся на подстанцию в недоумении: тут хоть собеседники нормальные есть, а этот?
Приблизительно через месяц ко мне вновь подошел Голод — дежурства не всегда совпадали — и спросил, ездил ли я к Иванову. Я высказал свое недоумение, но Владимир Иосифович посоветовал повторить попытку. Я вновь приехал: тот же Нестор Петрович Северцев, так же не очень понятно, чему тут меня могут научить и каким образом я, врач скорой помощи, смогу работать в кардиореанимации, не имея практически никаких навыков, вновь неразборчивое бурчание Константина Михайловича.
Вдруг при мне ему приносят пачку кардиограмм, не меньше сорока штук, и он начинает их просматривать. Мне, чтобы оценить кардиограмму (если речь не о капитальном инфаркте), необходимо было взять предыдущую и методично сравнивать изменения. Так вот, Константин Михайлович берет одну кардиограмму за другой, смотрит, откладывает в сторону: «Нормально, хорошо». Останавливается на очередной, качает головой, вздыхает: «Ой-ой-ой! Кошмар!» — откладывает в другую сторону, и так со всей пачкой!
И тут до меня доходит, что данные всех пациентов, которые лежат в его отделении, находятся у него в голове, каждого он помнит и знает, как развивается его болезнь. И понимаю, что у этого человека мне необходимо учиться! Сейчас я осознаю, что несмотря на то, что под руководством Константина Михайловича я не так уж и много проработал, но больше, чем он, мне не дал никто.
Без шуток не обходилось — они всегда были разрядкой в трудных ситуациях. Помню первую реанимацию под руководством Константина Михайловича, в которой участвовал и я: к сожалению, неудачная — спасти человека не удалось. Казалось, делали все необходимое — так, как учили: все в мыле, изо всех сил старались — но в итоге Иванов дает команду отбоя, смотрит на окно и не без иронии произносит:
«Эх, зря старались: форточка-то открыта! Если бы была закрыта, все бы получилось. А так — душа улетела, лови ее».
Вроде бы простое проявление врачебного юмора, с естественной долей цинизма, но на дворе еще 1987 год, и в стране пока еще торжествует атеизм, и даже такая простая хохма о душе многое говорила о человеке. Потом, когда мы с ним ближе познакомились, он поделился со мною, что очень ценит «Смысл жизни» Евгения Трубецкого, тогда как я оставался приверженцем одноименного произведения Симеона Франка — в те времена мало кому известных авторов.
Когда не удается помочь…
У меня никогда не возникало помысла: «Господи, ну что же Ты не помог?» Если удавалось спасти пациента, значит, с помощью Божьей, а если нет — значит, такова Его воля и все. Хотя собственное бессилие никогда не приносило радости.
Однажды в кардиореанимацию позвонили из приемного отделения, сказали, что привезли пациентку, — а это в другом корпусе больницы, и надо было идти по подземному переходу. Отправляют меня, как самого молодого, а значит, наименее востребованного, и в шутку напутствуют: «Если QS нет, то не наше». QS — это что ни на есть самое яркое проявление инфаркта на ЭКГ.
Прихожу, смотрю, женщина в очень тяжелом состоянии, и тут как раз тот самый пресловутый QS, пациентка «наша», да еще и с осложненной формой инфаркта. И довезу ли я ее от приемного отделения по подвалам до кардиореанимации — еще неизвестно. Все, что у меня есть с собой — мешок Амбу — это вспомогательное дыхательное приспособление с маской, чтобы помочь больному дышать при транспортировке. Но все равно успел с ней поговорить, чтобы хоть как-то представить себе картину заболевания.
До реанимации доехал, по пути подробно собирал анамнез, задав массу вопросов. Начал лечение, поставил капельницу. Необходимо было восстановить ритм, чтобы улучшить кровообращение и поддержать сердце: через вену в полость сердца надо ввести электрод, отыскать нужное положение и навязать искусственный ритм, но все попытки оказывались неудачными. В какой-то момент появился заведующий, консультировал меня, подсказывал, попутно разговаривая с пациенткой. Мне казалось, что он задавал ей те же вопросы, что и я.
Спасти больную не удалось. Мы начинаем писать посмертный эпикриз, и Константин Михайлович подсказывает мне нюансы диагностики и такие подробности жизни усопшей, что я не в состоянии понять, когда он успел их выяснить, ведь я не отходил от больной, и все, о чем он с ней говорил, мне казалось, я слышал. Однако его уши и внимание были совсем другого порядка, и я сознаю, как много я пропустил важного, значимого и какого замечательного доктора судьба поставила рядом со мною в эти ранние годы моей врачебной жизни. Царствия ему Небесного, он сам умер от инфаркта в 1996 году — его сердце не выдержало того развала медицины и отношения к врачам, которые породила перестройка.
Никогда не забуду одну пожилую женщину — в те времена не так часто встречались пациенты, носящие крест, и это, естественно, сближало. Она попала ко мне после инфицирования послеоперационной раны: загноилось место, куда был поставлен кардиостимулятор, регулирующий работу сердца, и пришлось ставить временный с противоположной стороны и лечить нагноение. Ритм сердца был восстановлен, но все было очень ненадежно.
После очередного дежурства я приехал домой — был какой-то праздник, и мне пришлось буквально из-за стола выскочить и вернуться в больницу: электрод отошел, и сердцебиение резко замедлилось — необходимо было вновь попытаться поставить проводок на место. И вновь я не смог ничего сделать. И мне надо было сказать ее дочери, которая вызвала меня из дома, потому что очень надеялась на мою помощь, что ее мать умерла.
11 часов наркоза
В 1990 году я перешел в отделение анестезиологии и реанимации НИИ проктологии, причем без глубокого понимания нюансов этой работы, без навыков проведения наркозов. Специфика общей реанимации сильно отличается от кардиологической. Приходилось доучиваться на практике.
Я присматривался около двух недель, а потом случилось так, что один врач уволился, другой ушел в отпуск, двое заболели и мы вдвоем с заведующей отделением, Ириной Евгеньевной Гридчик, остались на три операционных, а онкологическим больным задержка с операциями крайне нежелательна. Она взяла под контроль две операционные на девятом этаже, благо они были смежными, а меня, дав мне опытную анестезистку, отправила на седьмой.
Тогда-то мне и пришлось проводить свой первый наркоз, который длился примерно одиннадцать часов. Ирина Евгеньевна была постоянно открыта для консультации, и к ней в любой момент можно было обратиться за советом, да и я не напортачил, так что мое боевое крещение прошло достаточно успешно: больного привез в послеоперационное отделение, и дышал он самостоятельно.
К сожалению, ночью оторвался тромб, и он умер от эмболии легочной артерии, которую, увы, никто никогда предусмотреть не может. В таких ситуациях особенно остро осознаешь ничтожность своего собственного участия в деле помощи человеку.

«Боюсь, умрет, а у нее трое детей»
Наверное, мы и представить себе не можем, как Бог управляет нами и мы становимся инструментами в Его руках. Было это еще в 81-й больнице, когда я уже слегка оперился и уже кое-чему научился.
К сожалению, в отделение кардиореанимации, в котором, собственно говоря, я и мечтал работать, вместо Константина Михайловича назначили другого врача. Это был человек, о котором можно было сказать, что звезд с неба он не хватал. Наверное, он понимал в кардиологии больше, чем я, но по сравнению с Ивановым был вполне заурядным специалистом, да к тому же о нем нельзя было сказать, что он, в отличие от последнего, жил, горел и дышал лечебным делом.
К моменту его появления я успел поступить в клиническую ординатуру при институте переливания крови (ВГНЦ), база которой располагалась в моей больнице, и занимался проблемами нарушения сердечного ритма и новыми методиками лечения инфарктов. При этом я продолжал дежурить в кардиореанимации. Не то чтобы отношения с новым заведующим у меня не сложились, но теплыми их назвать никак было нельзя.
В один из вечеров ко мне подошел молодой анестезиолог, Андрей Бердоносов, и сказал (цитирую дословно): «Слушай, Лех, там на пятом этаже в пульмонологии тетка молодая загибается от бронхиальной астмы. У нее поливалентная аллергия, новокаином не обезболишь, объемная она, анатомии никакой, да и легкие раздуты, можно, конечно, пропороть, но ведь без “подключички” помрет. А у нее трое детей маленьких. Давай я на пятке венку найду, небольшой наркоз дам, а ты поставишь катетер?»
Поднялись на этаж. Все, как рассказал: действительно — тяжелейший приступ бронхиальной астмы — противопоказаний куча, шансов на успех немного, а не сделаешь — умрет. Делать нечего, внутренне перекрестился, обработал поле для манипуляции спиртом. Андрей тем временем, поковырявшись в пятке, ввел женщину в легкий наркоз. Я ее положил на кровать и на удивление легко, с первой попытки, проник в вену, установил катетер, зафиксировал и поставил капельницу. Ушло на это минуты четыре. Я никак не мог отнести это к своим заслугам, ибо асом себя не считал, и хорошо осознаю, с Чьей помощью все осуществилось. Естественно, оставил протокол о произведенном действии в истории болезни, правда, изучать ее не стал, и вернулся в свое отделение.
Утром судорожно дописывал дневники своих пациентов, когда в ординаторскую зашел заведующий. Было видно, что он чем-то недоволен — несколько раз прошелся туда-сюда, встал и выдавил из себя: «Я, конечно, понимаю, что победителей не судят, но ты историю болезни-то хоть читал?» Я сразу не понял, в чем дело, ибо ночью у врача много забот: «Какую?» — «На пятом этаже, — пояснил доктор. — Иди, почитай!» Поднимаюсь. Читаю, а там за подписями главного анестезиолога и председателя общества анестезиологов города Москвы Черняховского, заведующего общей реанимацией Коваленко и заведующего нашей кардиореанимацией, на полутора страницах оставлена запись о том, что пункция подключичной вены противопоказана.
Естественно, я оценивал ситуацию, когда накануне занимался больной. Но если бы мне на глаза попалась эта запись, то я, скорее всего, к манипуляции бы приступил, но не уверен, что руки у меня при этом бы не тряслись. Насколько я знаю, на следующий день эту больную перевели в отделение общей реанимации и лечили ее там через поставленный мною катетер. Ко всему прочему, Коваленко после этого случая стал относиться ко мне приветливо, а мнением этого специалиста я дорожил.
Вместо заведующего отделением — в священники
Я понимал, что рано или поздно стану священником. Вскоре после того, как я провел свой первый наркоз, мой отец, протоиерей Владимир Тимаков, был назначен настоятелем храма преподобных Зосимы и Савватия Соловецких в Гольяново, а работы в только что открывшемся разрушенном храме было непочатый край. «Иди ко мне служить!» — предложил он мне.
Но это было бы не по-человечески: как я уже говорил, я пришел в отделение, в котором врачей и медикаментов не хватало, и оборудование устаревало — напряженное время в медицине. Это сейчас и одноразовые шприцы, и потрясающие технологии, и аппаратура. За 30 лет произошел гигантский скачок. Когда я работал, это было из области фантастики. У меня в памяти эпизод: известный хоккеист Владимир Крутов привез в 81-ю больницу партию одноразовых шприцев — это было настоящим событием!
В общем, отец согласился, что в тот момент уйти было бы непорядочно. Но года через два, после того, как я перешел в больницу Академии наук, он вновь ко мне подступил. Я прекрасно понимал, что ни образования, ни необходимых качеств для этого поприща я и близко не имею, но священников в Москве не хватало катастрофически: государство возвращало старые полуразрушенные церкви, и я, неуч, но с самого младенчества вросший в Церковь, вполне мог на что-то сгодиться, тем более что уже пять лет преподавал Ветхий Завет в школе при храме.
Да и ситуация в моей «военно-полевой анестезиологии» тоже изменилась к лучшему: постепенно подтянулись прежние анестезиологи, и даже стала выстраиваться очередь, кому идти помогать на операции. Они шли уже полным ходом, и стало возможным полное анестезиологическое пособие. Я чем-то приглянулся администрации больницы, и мне предложили занять должность заведующего анестезиологическим отделением.
Пришлось честно признаться, что я на распутье, объяснив конкретную причину и сказав, что остаться смогу, только если Сам Господь не пожелает видеть меня среди Своих служителей. Это было встречено с пониманием. Через месяц я прошел Епархиальный совет и меня утвердили в качестве ставленника к рукоположению во диаконы.
Соответственно, от почетной должности заведующего я отказался, но медицину решил не оставлять и попросил у Святейшего Патриарха Алексия разрешение на совмещение священнического служения с работой врача. В итоге я работал анестезиологом не каждый день: выходил только на дежурства, а года через два, когда пришли новые врачи и работа в клинике окончательно наладилась, ушел.
Вскоре после того, как главврачом больницы был назначен Николай Гаврилович Гончаров, он обратился ко мне с просьбой об основании храма при больнице. Я сказал, что с этой задачей лучше справится мой отец, опытный настоятель, и вызвался их познакомить. Отец Владимир откликнулся и, со свойственной ему энергией, взялся за дело. В итоге храм, спроектированный по задумкам Николая Гавриловича архитектором Геннадием Писаревым, был обустроен и освящен. Произошло это в 2005 году на Светлой седмице. Я искренне счастлив, что малая толика в его становлении коснулась и меня.
Не «за что», а «для чего»
Если ко мне приходят люди со словами: «Батюшка, благословите, делать операцию или нет, принимать такой-то препарат или нет», я говорю, что о таких вещах нужно советоваться с практикующим врачом, а не со мной, сильно отставшим от того, что делается в медицине. Если ты веришь доктору, веришь в его помощь, тогда лечись, слушай, что он говорит. Не доверяешь — уходи и ищи другого. Но если тот врач, которому ты веришь, советует тебе делать операцию, то я, конечно, благословлю тебя, дабы Божья помощь в этом очень непростом деле не покидала вас обоих и всячески споспешествовала и больному, и доктору.
В храме при Центре борьбы с туберкулезом, в котором я также являюсь настоятелем, приходится часто общаться с пациентами, «схватившими» палочку Коха. Психологически они несколько иные, чем, скажем, кардиологические больные. Туберкулез настигает человека внезапно, а сердечная патология проявляется постепенно. Даже если с человеком случается инфаркт, то через два-три месяца после реабилитации он вновь более или менее полноценен, нужно, конечно, следить за сердцем, не допускать больших нагрузок, но жизнь довольно быстро входит в свою колею.
А здесь лечатся больные по полгода, а иногда и больше. Особенно тяжело переживают успешные люди: у человека была хорошая работа, социальная активность, и вдруг у него обнаружилась такая болезнь, которая пугает, отталкивает других людей, о ней не принято говорить, к тому же есть перспектива потерять работу. Они часто уходят в себя, и с ними необходимо долго разговаривать, встряхивать, объяснять, что жизнь не закончилась и все вернется на круги своя.
Бывает, не понимают — за что им такое? Ответ сформулирован уже достаточно давно: не за что, а для чего! Для чего мне такие испытания? Многих я спрашиваю: для чего в мир пришел Христос? И люди начинают задумываться. Если рождается ответ: Христос пришел в мир для моего спасения, для того, чтобы вытащить меняиз ада, для этого Ему пришлось идти на страдания и смерть, то есть без Его боли я не могу быть спасен, Его страдания были необходимы лично для меня, — то тогда начинается рассвет в душе, и человеку легче становится переживать свою боль и болезнь.
Фото: Дарья Смирнова/miloserdie.ru, из архива священника Алексея Тимакова